Говорить мы сегодня будем о третьем цикле «Бесед о русской культуре» Ю.М. Лотмана. Цикл называется «Культура и интеллигентность», он опубликован в сборнике «Воспитание души» (СПб, 2005, с. 470-514), цитировать буду по этому именно изданию.
Для начала скажу, что Лотмана надо читать всем. Мало того, что это блестящий исследователь, это ещё и блестящий идеолог: такую этическую экспансию, какую проводил он, мало кто осилит провести.
Спорить с Лотманом очень трудно. Не потому, что он прав (он, по-моему, во многом не прав), а потому, что его слабое место — структурирование материала. Наиболее яркий пример — четвёртая лекция уже из другого цикла всё тех же «Бесед…» (там же, с. 575-584). Формально она посвящена Александре Осиповне Россет-Смирновой («сегодня мы взяли образ такой женщины, которая сыграла в пушкинской судьбе и в русской культуре своей эпохи большую роль»). Но фактически Лотман говорит в этой лекции о чём угодно, только не о роли Россет-Смирновой в русской культуре и даже не об её образе. Он говорит о Кюхельбекере, о стереотипе «Пушкин и женщины», о том, как относился к Россет-Смирновой Пушкин, об отце Россет-Смирновой, о том, как тяжело Россет-Смирнова рожала и как она выставила из дому Вигеля за оскорбление покойного Николая I; говорит о том, что говорила о Россет-Смирновой жена Пушкина, и о том, как весел был Пушкин, живя в Царском Селе летом 1831 года, как он там плодотворно работал и что написал; говорит о цензурных исправлениях в «Сказке о попе и работнике его Балде»; говорит о Лермонтове, о том, какое влияние оказал на Лермонтова Пушкин, о том, как относился Лермонтов к Россет-Смирновой, о том, какое образование получил Вяземский и как мало было оснований у Тынянова считать, что Пушкин влюбился в Карамзину; говорит о Гоголе, очень много говорит о его «Выбранных местах из переписки с друзьями» (упоминая в конце и о двух письмах Россет-Смирновой) — и заканчивает заявлением: «Россет была замечательным человеком… Она оставила яркий, ничем не заменимый след в русской культуре». Честно скажу, этот след я пыталась отыскать только что не с собаками. Всё думала, что же это был за след: то ли мучительные роды, то ли благодарное прослушивание чужих стихов (а ей все свои стихи читали: и Пушкин, и Лермонтов, и… хотела сказать, Гоголь), то ли тем, что Вигеля зобанела. Не понятно, в общем, в чём значение этой, несомненно, интересной женщины. Может быть, она предложила те самые цензурные изменения, благодаря которым оказалась возможной публикация «Сказки о попе…». Не знаю, не понятно, в общем.
Я, однако, не о женщине, а я о том, как Лотман структурирует информацию. Пример, надеюсь, достаточно наглядный для того, чтобы вы поняли сложность задачи: мало того, что нужно анализировать, так ведь надо ещё догадаться, что принимать во внимание, а что нет. (Тут поймите меня правильно: я не хочу обвинить Лотмана в чём бы то ни было, нет. Его и читать, и слушать очень интересно, «легко и приятно». Просто у каждого оратора и публициста, у каждого писателя вообще есть слабое звено. Вот у Лотмана хромает инженерный аспект. Не судите его строго: это беда почти поголовно всех гуманитариев. И уж поверьте, ради удовольствия понять Юрия Михайловича можно потерпеть ещё и не такие выверты. Это всё-таки не графоман-прозаек.)
Итак, прежде всего следует выделить то главное, на что мы будем опираться.
В первой лекции цикла «Культура и интеллигентность» даётся развёрнутое определение того, что следует понимать под словом «культура» в данном контексте. Кроме того, даётся попытка определить интеллигентность: «интеллигентный человек — это человек внутренне свободный, бесспорно уважающий себя». Также различаются понятия «интеллигенция» и «интеллигентный человек»: первое — это социальная прослойка людей умственного труда, второе — это человек определённого склада.
Во второй лекции даётся образ интеллигентности — «это образ матери с ребенком на руках». Говорится об имманентном интеллигентности. Это толерантность («интеллигентный человек стремится понять другого»); склонность к сомнению (с одной стороны, «в самом понятии интеллигентности неизбежно присутствует сомнение», тогда как неинтеллигентный человек «убежден, что он сам думает правильно», с другой — «Мышление — это право на сомнение, способность раз в жизни подвергнуть сомнению всё» — курсив автора); индивидуальный взгляд на вещи («он имеет выношенные, свои мысли и строит жизнь в соответствии с этими мыслями»); наличие убеждений («Он может ошибаться, но готов за свои ошибки платить, в том числе и своей жизнью»). Кроме того, Лотман в этой лекции делает интересную оговорку, касающуюся гуманизма, из чего мы косвенно (автор прямо не называет гуманизм в числе свойств, имманентных интеллигентности) делаем вывод о том, что интеллигентности свойственна как минимум гуманность. Из следующих лекций мы поймём, что это действительно так, более того, гуманизм и есть фундаментальная черта интеллигентности.
Третья лекция посвящена аспекту борьбы: интеллигентный человек, по Лотману, «борец, и борец в тяжелых ситуациях», поскольку ему приходится противостоять бюрократической, хамской системе. Лотман приводит в пример Вольтера, его борьбу за торжество толерантности. Здесь же мы узнаём, что если «человек был настолько поражен несправедливостью мира, что в минуту, когда он покидал этот свет, думал о борьбе с этой несправедливостью, то он заслуживает не только уважения, но и оправдания в своих грехах». Кроме того, в этой лекции Лотман начинает разговор о среде, из которой возникли интеллигентные люди (школяры, монахи, паломники).
Лекция четвёртая посвящена критическому взгляду на мир и способности к рефлексии («поскольку мыслящий, чувствующий, имеющий совесть человек — человек оценивающий, и потому он оценивает и себя»), а также «страдающей любви к Родине». «Страдающая любовь к Родине» — так называет Лотман любовь к Родине, которая возникает под воздействием критического взгляда на текущее положение вещей и которая прямо вытекает из привязанности «к своей культуре, к своему народу и к своей Родине». Здесь же продолжается разговор о среде, из которой вышли интеллигентные люди (разночинцы).
В пятой лекции Лотман рассказывает о дворянстве как о ещё одной среде, давшей начало интеллигентному человеку. Здесь же говорится о стыде («интеллигентность подразумевает развитое чувство стыда, а отсутствие интеллигентности — столь же развитое чувство бесстыдства… Для людей с интеллигентной психикой регулирующим свойством является стыд, а для людей бесстыдных регулирующим свойством является страх: я не делаю, потому что боюсь… Стыд — это чувство свободного человека, страх — это чувство раба»). Здесь же упоминаются «развитое чувство самокритики, развитое чувство долга, необходимости за этот долг платить, погасить этот долг». Здесь же уточнение: «Чувство стыда, долга перед народом и чувство собственной гордости составляет тот комплекс, который тогда называли чувствами благородного человека, а мы сейчас называем интеллигентностью».
Шестая лекция посвящена развитому чувству справедливости и независимой позиции, в частности по отношению к власти.
Вот такая выжимка.
Честно скажу, если бы писал кто-нибудь из сетевых графоманов, я бы это даже читать не стала, потому что столько сферических коней на кв. см. текста — это выше моего понимания однозначно. Но Лотман есть Лотман, он интересен, даже когда противен, он захватывает, его читаешь, как роман, а уж коль скоро читаешь, изволь анализировать (анализ имманентен чтению, если кто забыл).
Вот и будем анализировать, следовательно. Не капитально, а так, чуть-чуть.
I. Культура.
Объясняя понятие «интеллигентность», Лотман связывает его с защитой культуры (противопоставляя интеллигентности хамство). Для этого ему естественным образом требуется определить или описать понятие культуры:
«Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что слово "культура" мы будем употреблять не в значении научно-технического прогресса. Научно-технический прогресс составляет только определенную часть культуры, хотя в очень многих контекстах эти слова употребляют как равнозначные… Для этого есть известные основания, поскольку само слово "культура", восходящее к латинскому слову, означало первоначально "обработанное поле" — то, что сделано руками человека.Действительно, культура — в определенном смысле — противостоит природе. Природа — это то, что человеку дано, а культура — это то, что человек сделал. Но не все то, что человек сделал, есть культура. Человек создает культуру, и человек ее разрушает. Культура (как мы будем употреблять это понятие) — это своеобразная экология человеческого общества. Это та атмосфера, которую создает вокруг себя человечество для того, чтобы существовать дальше, для того, чтобы выжить. В этом смысле культура — понятие духовное: понятие, связанное с идеями, представлениями, эмоциями, а не с вещами, аппаратами и машинами. Конечно, это две стороны одного вопроса, но стороны эти не механически связаны друг с другом. В истории человечества мы наблюдаем, как развитие науки и культуры идет дружно и научный прогресс вызывает технически и сопровождается прогрессом в культуре, но будем наблюдать и то, как быстрое развитие науки, особенно техники, будет вызывать регресс культуры, откатывание назад».
Ниже Лотман говорит о том, что исторически культура начинается с запретов:
«В обществе возникает закон, и первый закон: нельзя жениться на сестре и матери — физически можно, но культура запрещает. Нельзя, скажем, что-то есть… Видите, какая странная вещь: самые нужные, простые, естественные вещи — еда и секс и на них накладывается запрет. Вот с этого начинается культура. Конечно, чем дальше, тем культура требует больших отказов, больших стеснений, она облагораживает чувства и превращает просто человека в интеллигентного человека».
Я не собираюсь спорить с тем, что описанное Лотманом превращение есть превращение именно в интеллигентного человека. У меня возражения другого порядка. Во-первых, я не согласна с лотмановским определением культуры. Я не вижу оснований отделять материальную культуру от нематериальной и рассматривать последнюю в отрыве от контекста материальной культуры. Если мы связываем понятие культуры с идеями, эмоциями и т.п., то раньше или позже мы неизбежно натолкнёмся на проблему зарождения идей и получения эмоций, а это вне контекста материальной культуры если и возможно, то только в очень ограниченном объёме. Так, например, чайная церемония уже не будет входить в круг нематериальной, то есть т.н. духовной культуры, поскольку эта церемония неотделима от определённого набора предметов (если же этот набор изменить, изменится сама идеология чайной церемонии). Так же мы не сможем отнести к «духовной» культуре бальные и иные праздничные, в частности маскарадные традиции: одежда в данном случае предопределяет стиль поведения. К примеру, маскарад в странах мусульманского Востока невозможен, поскольку абсурден.
На самом деле зависимость одного аспекта культуры от другого глубока почти до бездонности, и это естественно: предметы востребованы лишь тогда, когда они могут воплотить некую идею, тогда как идея не может быть совершенно чуждой материальному контексту. Так, например, идея о том, что нужно любить родину, могла появиться только при условии существования родины, то есть именно что конкретной земли, которую человек возделывает. С другой стороны, любовь к родине помогает возделывать землю быстрее и эффективнее, чем равнодушное к ней отношение.
Говорить о нематериальной культуре вне контекста культуры материальной — это всё равно что выхолащивать нематериальную культуру, низводя её до уровня сферического коня. Это, повторяю, во-первых.
Во-вторых, я не нахожу в описанном Лотманом превращении (вторая цитата) защиту культуры. То есть, на мой взгляд, интеллигентный (по Лотману) человек и культурный человек суть два разных человека, более того, это антагонисты.
Потому что культура, на мой скромный взгляд, начинается не с запретов, а с построения системы символов. А как вы собираетесь выражать запрет, если вы не в состоянии этого сделать? Это — раз. Два: если говорить о запретах, то первичен не сам запрет, а осознание необходимости запрета, то есть индивидуальная или общественная (смотря о какой культуре мы ведём речь) естественнонаучная деятельность. Видите ли, я считаю (будучи глубоко в этом убеждена), что запрет без фундаментальной основы — это порочный запрет. Запретить ведь можно что угодно, но если в запрете нет практического смысла, он превращается в идола, и наилучшим образом это доказывают т.н. православные христиане, весь смысл веры которых заключается в том, что женщине нельзя снимать платок, а в постный день нельзя есть мясо. Подумать о том, чем могли быть вызваны такие запреты в ту пору, когда они возникали, и адекватно распорядиться выводом, то есть спроецировать выраженное в старой системе символов на новую систему, люди, приученные к слепому «нельзя», часто оказываются неспособны. Между тем культура невозможна без развития системы символов. Как только возникает новая идея, для её обозначения неизбежно изобретается новое слово. Как только новая идея находит воплощение, слово придумывается и для воплощения тоже.
Итак, если мы понимаем интеллигентность как следование запретам (точка), то мы неизбежно противопоставляем её культурности. Мы получаем человека, непонятно зачем моющегося предписанное число раз в день или в неделю, непонятно почему не вступающего в сексуальные отношения с собственной сестрой и непонятно с какой стати отказывающего себе в мясе по постным дням. Если это культура, пристрелите меня, пожалуйста.
Можно возразить: Лотман не имел в виду настолько примитивное понимание культуры. А я на это так отвечу: меня настораживает, что семиолог ни разу не апеллировал в разговоре о культуре к системам символов. Если понимание культуры не настолько примитивное, то почему на протяжении всего цикла «Культура и интеллигентность» мы видим такое количество апелляций к авторитетам и к стыду, но не видим ни одного удовлетворительного объяснения того, почему в качестве культурного авторитета выбрана именно эта личность, а не та, и почему мы должны считать стыд мерилом культуры.
Неубедительно и неудовлетворительно.
II. Стыд
Кстати, вот, о стыде. Я ещё раз процитирую Лотмана:
«…интеллигентность подразумевает развитое чувство стыда, а отсутствие интеллигентности — столь же развитое чувство бесстыдства… Для людей с интеллигентной психикой регулирующим свойством является стыд, а для людей бесстыдных регулирующим свойством является страх: я не делаю, потому что боюсь… Стыд — это чувство свободного человека, страх — это чувство раба».
Я не собираюсь спорить с тем, что имманентно интеллигентности. Плохо разбираясь в сфероконях, я предпочитаю в том, что касается интеллигентности, верить на слово более этически продвинутым товарищам. Меня смущает другое. Дело в том, что из множества возможных регулирующих свойств Лотман назвал только два — стыд и страх. Такие чувства, как практицизм («я не делаю этого, потому что эффективнее добиться своей цели, не делая этого»), эстетика («я не делаю этого, потому что это некрасиво»), логика («я не делаю этого, потому что это бессмысленно»), любопытство («я не делаю этого, потому что известно, чем это кончится») и прочие подобные во внимание не принимаются, причём не принимаются так настойчиво, словно бы отсутствуют вовсе.
А между тем, откуда берётся упомянутый Лотманом стыд? Не на голом же месте он вырастает, верно? Нет, я охотно верю, что существуют люди, для которых регулятором действительно оказывается этический императив («есть нравственное и безнравственное»). Но ведь стыд могут испытывать и те, кто чихать хотел на этот этический императив, а временами даже и сморкался. Откуда стыд берётся у них?
А вот отсюда: регуляторами могут быть не только этический императив и страх. Альтернатив очень много, всё зависит от того, что положено в основу образа, который создаётся человеком в отношении себя самого. Вот это очень важно: то, каким человек себя представляет, тот идеал, который он хотел бы воплощать и к которому он стремится, и есть его регулирующее свойство. Если человек себя в идеале представляет всего лишь существующим, то его регулирующим свойством будет, безусловно, страх. Но если его идеал хотя бы чуть-чуть отличается от простого существования, его регулирующим свойством будет, возможно, уже нечто иное. И собственное острое несоответствие идеалу, безусловно, вызовет в таком человеке приступ острого же стыда. Вот только при чём здесь этика, если этика составляет лишь малую часть возможного? И при чём тут стыд как таковой, если он может базироваться на едва ли не диаметрально противоположных вещах?
Вообще, судить об идее человека по его действиям, а тем более по его реакциям на собственное и чужое поведение, а тем более по собственным оценкам его реакций — это большая ошибка. Это всё равно что судить о том, из чего приготовлено блюдо, на основании критерия «вкусно — невкусно».
Нет в этих котлетах моркови. Да, я рада, что они вам нравятся, но морквы в них нет. Вот в тех есть, а в этих — только мясо.
III. Интеллигентность
Говоря об интеллигентном человеке, Лотман приводит в пример Вольтера. Я не спорю с тем, что Вольтер был интеллигентным человеком. Может быть, и был. Но посмотрите, что у Лотмана лежит в основе такой оценки: «Вольтер нам сейчас не кажется таким апостолом истины, и уж тем более его личные свойства, как говорил Пушкин, нуждаются в оправдании. И все-таки я хочу привести в пример его… Каждый год в годовщину Варфоломеевской ночи Вольтер был болен». Далее Лотман рассказывает о том, как Вольтер защищал и протестантов, и генерала Лалли, и пишет: «Если человек был настолько поражен несправедливостью мира, что в минуту, когда он покидал этот свет, думал о борьбе с этой несправедливостью, то он заслуживает не только уважения, но и оправдания в своих грехах». Я теряюсь, потому что на основании этого вердикта мы можем оправдать даже нацистов. Не помню, кто из них конкретно (чья-то жена) писала сыну, находившемуся за границей примерно следующее: «Когда ты получишь это письмо, нас уже не будет в живых, мы приняли решение покончить с собой, чтобы дать нашим последователям пример мужества во имя торжества идеи», или что-то в этом роде. Вот, тоже ведь боролись люди, и тоже, с их точки зрения, с несправедливостью мира. Настолько были поражены этой, как им казалось, несправедливостью, что без колебаний отдали за свою идею жизни. Правда, земля в крови утонула, но ведь тогда, в мае 1945-го, их к самоубийству никто не принуждал, сидели в бункере, а могли же и за границу свалить.
Так оправдать ли?
Дьявол, как всегда, в деталях, а искомая деталь в данном случае — понятие «несправедливость». Фактически, фразу Лотмана следует читать так: «Если человек был настолько поражен несправедливостью мира (как я её понимаю), что в минуту, когда он покидал этот свет, думал о борьбе с этой, в моём понимании, несправедливостью, то он заслуживает не только уважения, но и оправдания в своих грехах».
Пожалуйста, не поймите это как упрёк Лотману или тем более как оскорбление, нанесённое ему лично. Лотман, повторяю, был крупнейший идеолог и проводил этическую экспансию, он имел право на подобные высказывания, потому что его задачей было, как он сам это определял, «воспитание души». Он прямо декларировал этические ценности, и это давало ему основания оперировать любыми удобными или хотя бы просто интуитивно понятными сфероконями.
Но меня лично, как человека, далёкого от этики в принципе (я не приемлю этического императива), все эти сферокони не устраивают. Я, таким образом, исключаю из своего лексикона понятие интеллигентности, потому что не могу интуитивно определить понятие «справедливость». Для меня справедливость, как я уже когда-то говорила, точно так же относительна, как и любая идея, не приложенная к материальному контексту.
Вот вам, кстати, лишнее подтверждение того, насколько неправомерно отделять нематериальную культуру от материальной.
IV. Оправдать?
Интересная деталь: «оправдать». Оправдать — это значит признать за человеком право поступать неким образом. То есть Лотман выписывает индульгенцию Вольтеру на основании его соответствия некоей идее.
Что это автоматически означает? Это автоматически означает, что все равны, но некоторые, тем не менее, равнее. Хотел Лотман сказать именно это или не хотел, теперь уже не спросишь, но получилось как получилось, и в дальнейшем люди будут понимать эту фразу именно так: все равны, но соответствующие некоей идее равнее.
Безусловно, это поднимает престиж озвученной Лотманом идеи (Вольтер — величина, на которую сложно закрыть глаза), но в то же самое время это и дискредитирует саму идею, даёт почву для её профанации. Кстати, именно отсюда растут ноги той профанации научной деятельности, на которую так ругался сам Лотман. Постулат «соответствуй — и тебе будет дозволено больше прочих» не может привести к иным результатам.
Это, надо заметить, слабое звено всякой этической экспансии: проводя её, идеолог неизбежно сталкивается с проявлениями «безнравственности», а находя проявления «безнравственности» там, где находить подобные вещи неудобно, начинает в самом лучшем случае, как Лотман, искать оправдания. Почему в самом лучшем случае? Потому что в норме «греховные» (то есть в этическом смысле «безнравственные») неудобные факты попросту замалчиваются. В школе не рассказывают, что Пушкин писал матные стихи, потому что мат — это аморально.
В лучшем же случае матным стихам (условно) находится оправдание. Здесь есть тонкость: не объяснение, а именно оправдание. Объяснить «грехи» Вольтера (да и вообще любые «грехи») несложно. Но этический императив требует соответствия моральным нормам и наказания за несоответствия, а этика исследователя не позволяет закрывать глаза на неудобные «плохие» факты. И вот так рождается феномен оправдания. Вроде как состоялся суд, рассмотрел обстоятельства дела и принял следующее решение: с одной стороны, признать, что человек грешил против морали, а с другой — освободить от возмездия.
В результате получается, что наказывать Вольтера мы не будем, то есть не открестимся от него, признаем его нашим. По сути же это и означает, помимо приобретения очередного авторитета (а что такое «наш» в культурологической среде и вообще в среде гуманитариев, думаю, не надо рассказывать), начало профанации этической идеи. Идеолог, таким образом, собственными руками роет могилу своей идеологии.
Порочная практика — апелляция к авторитетам. Вдвойне она порочна в устах идеолога. Малейшая ошибка авторитета, на который опирается идея, ставит под сомнение всю идеологическую надстройку. Благо, если ошибка тоже в надстройке.
А если она в фундаменте?
Ведь смотрите, если Вольтера не оправдывать «в грехах», его не получится назвать интеллигентным человеком, а если его не получится назвать интеллигентным человеком, рухнет тот столп, на которым зиждется толерантность на базе гуманизма, — одна из имманентных, по Лотману, черт интеллигентного человека (гуманизм он не называет прямо, подозреваю, именно потому, что это абсолютно неотделимая от интеллигентности черта, настолько очевидная для Лотмана, что он попросту не видит смысла называть её специально). С Вольтера же, в частности, начиналось свободомыслие — так что, если Вольтер окажется изъят из списка интеллигентных людей, пошатнутся устои интеллигентности.
Между тем, именно гуманизм отличает интеллигентного человека от человека просто культурного. Просто культурный человек может быть негуманен до безобразия, а вот интеллигентный человек негуманным быть не может, равнодушие к страданиям отдельно взятого человека противоречит интеллигентности.
Я не думаю, что Лотман сознательно пытался манипулировать общественным мнением и размахивать авторитетом Вольтера. Всё проще, как мне кажется: Вольтер был настолько привлекателен для Лотмана лично, что у Лотмана не было никаких сомнений в его интеллигентности. Ну да, то самое стремление определить ингредиенты по критерию «вкусно — невкусно». Я плохо читаю в сердцах и не претендую на истину, но, по-моему, всё именно так и обстояло.
V. Рефлексия
Рефлексия в норме — это способность оценивать постфактум приемлемость собственных поступков, мыслей, побуждений и т.п. То есть не «Как сделать правильно?», а «Правильно ли я сделал?» Но рефлексия интеллигентного человека — это нечто иное. Фактически, это постоянный поиск выхода из этической вилки, в которую человек загоняет себя сам. Дело в том, что над ним довлеют противоречащие друг другу императивы: с одной стороны, он должен быть мягок и уступчив (это почти прямые цитаты из Лотмана), с другой — непримирим и непоколебим в своих принципах; с одной стороны, он должен любить отдельно взятого человека, но с другой — он должен руководствоваться любовью к родине (а это часто противоречащие друг другу вещи). При всём при том его поведение регулируют стыд и постоянное сомнение, в частности, в собственной правоте.
Я не хочу сказать, что такой набор однозначно плох. Он однозначно плох для меня, потому что быть, например, одновременно и уступчивой, и непоколебимой — это коллапс. Но я и не претендую на гордое звание интеллигентного человека, и вообще не о том говорю. А говорю я о том, что рефлексия интеллигентного человека — это такой бесконечно мучительный процесс, выход из которого мне лично не видится ни в профиль, ни анфас. И я не знаю, как жил с таким набором Лотман, если, конечно, жил именно так, как писал.
Но я, как мне кажется, очень хорошо представляю, почему об интеллигентном человеке принято думать как о никчёмной и беспринципной пустышке. Причина вот в этой рефлексии. Она отнимает огромное количество времени и редко превращается в деятельность (а когда превращается, человек и в действии стремится максимально соответствовать всем требованиям, отчего очень часто получается не результат, а манная каша, как получается всегда, когда цель подменяется средством).
Интеллигентному человеку должно быть очень трудно действовать в принципе, его действия, по-моему, если они не касаются его лично, — это всегда ответная реакция на какой-то раздражитель. Вот когда припёрло, грубо говоря, тогда и начали что-то делать, а пока не припёрло, сидим совмещаем противоречащие друг другу элементы. Мучаемся, страдаем, льём горючие слёзы — скорбим.
Это всё, безусловно, не отменяет достижений интеллигентных людей, если таковые достижения были (а я, повторю, в сердцах не чтец, и кто интеллигентен, а кто нет — это не мне решать). Это говорит лишь о том, что быть интеллигентным человеком непрактично и, как это ни странно, некрасиво. Постоянное самокопание — это в принципе некрасиво, поскольку бесформенно. Одно дело — стремление к идеалу, но как стремиться к идеалу, если идеал сочетает в себе несочетаемые вещи?
В связи с этим мне вспоминается сказка, в которой девушка должна была явиться к царю «ни голой, ни одетой, ни верхом, ни пешком, ни с подарком, ни без подарка». Девушка, не будь дура, напялила на себя рыболовную сеть, влезла в стремя одной ногой (а по другой версии, запрягла зайца) да принесла в подарок птичку, которая потом улетела. Так вот, интеллигентный человек в состоянии рефлексии (а это, как мы помним, имманентное интеллигентности состояние) представляется мне в образе девушки, одетой в рыболовную сеть и скачущей на одной ноге, держа другую в стремени.
И я ничего не могу с этим сделать. При всём своём уважении к Лотману.
ЗЫ. Да, его — читать всем обязательно.
С началом обсуждения этого постинга вы можете ознакомиться здесь.
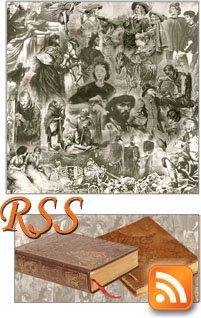


- Читать в LiveJournal
Для справки: с начала осени 2008 г. по неизвестным причинам ЖЖ-трансляция не обновляется вообще; так что, если хотите получать обновления своевременно, лучше подписывайтесь непосредственно на RSS (читать об RSS-агрегаторах).