По чистой случайности публикую здесь пространный ответ вот на этот постинг в надежде, что он послужит некоторому уменьшению энтропии во вселенной.
(Без лишних предисловий, ибо кому они нужны. Местоимение «ты», как всегда, не персонифицировано. Вообще ничего личного. Зелёным удобства ради выделен текст топик-стартера.)
1
никогда-никогда не надо начинать книгу с пространных рассуждений "от автора". И вообще рассуждать "от автора" в художественных книгах не надо
Вот за что я люблю максимализм, так это за незамутнённость.
…банального в целом, но, как всегда, неожиданного для многих. Теперь, начав, таким образом, книгу, можно написать, например, о роли логических связей в судьбе гражданки О.М.Г., по воле автора отказавшейся от наследства. Студенты будут неистово фапать и поминать автора в одном ряду со Шри Ауробиндо, Лавкрафтом и Ницше.
Пространное рассуждение
Прежде чем отказываться от чего-либо, нужно по меньшей мере выяснить, от чего именно предстоит отказаться. Нет, конечно, если я — герой романа, и по сюжету мне просто положено отказаться, например, от наследства, то волею автора я никуда не денусь и от наследства откажусь, хочу я того или нет. Но, как правило, нормальный человек живёт не в романе, а в обычной жизни, где никакой воли никакого автора не существует, и всё, что человек принимает, и всё, от чего он отказывается, так или иначе составляет цепочку его личных выборов.
«Никогда-никогда не надо начинать книгу с пространных рассуждений "от автора". И вообще рассуждать "от автора" в художественных книгах не надо», — таков тезис.
Я не знаю, чего не надо делать в книгах, но я точно знаю, что в них делать надо. Прежде всего, надо точно знать, что означают те слова, которые мы употребляем. Поэтому в словарь, друзья, в словарь! Мы откроем его на соответствующей статье и прочтём:
И всё в таком же духе.
Рассуждение — функционально-смысловой тип речи с обобщенным причинно-следственным значением, опирающимся на умозаключение. Суть Р. в объяснении какого-либо утверждения или в обосновании истинности какой-то основной мысли (тезиса) другими суждениями…
Или:
Рассуждение — мыслительный процесс, направленный на обоснование к.-л. положения или получение нового вывода из неск. посылок. Мышление принимает форму P. обычно в тех случаях, когда нужно узнать что-то новое, анализируя уже известные факты или положения…
Что я могу заключить, ознакомившись с определением термина «рассуждение»? Мне кажется, проблема совсем не в том, что читателю-де неинтересны рассуждения (ещё как интересны, ведь он и сам не дурак порассуждать), а в том, что писатели, греша риторической небрежностью, путают на письме термины «рассуждение» и «пространное изречение». Именно в последнем отсутствует столь необходимая (и достаточная, добавлю) для рассуждения логическая составляющая. Если принять за названное в тезисе рассуждением именно пространное изречение, то всё становится на свои места: действительно, никогда не надо начинать книгу пространным изречением, и вообще не надо ничего и нигде изрекать, это пошло.
Конец пространного рассуждения…
Шутка. Не будут. Современные студенты в большинстве своём не знают, кто такие Шри Ауробиндо, Лавкрафт и Ницше.
2
Меньше рассказывай, больше показывай.
И снова мы должны начать со смысла слов. Что такое «рассказывать» и что такое «показывать»? Я уже когда-то в какой-то лекции приводила пример совершенно абсурдной фразы, суть которой сводилась к тому, что отец перекрестил дочь. Автор, ведомый, очевидно, стремлением «показать», а не «рассказать» выстроил эту фразу так, что с первого прочтения очевидным становился только его, автора, диагноз.
И теперь возьмите «Капитанскую дочку». Да, прямо сейчас. Это дивно увлекательный роман, который целиком… рассказан. Более того, он начинается с такого адского кошмара, от которого современный графоман, не знай он, что перед ним Пушкин, шарахнулся бы в ужасе:
«В 17.. году»! «Авдотье Васильевне Ю.»! «Князя В.»! Это что, вообще, за лор?! Как можно настолько не продумать историю собственных героев?! «Нас было девять человек детей» — «человек детей» — это кто, ваще, писал?! «Брюхата» — сразу возникает ассоциация со свиноматкой, нет бы нежно «тяжела», мать ведь всё-таки, а какой позорный образ с первых же строчек!
Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.
Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя В., близкого нашего родственника.
Этот абзац современный графоман превратил бы в две главы: в первой был бы показан Савельич, во второй — одиннадцатилетний Петруша с борзым кобелём в кобелятнике. И чтоб дойти до единственной правильной фразы: «я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки» (всё, больше, в принципе, ничего не надо «показывать»), — ему понадобилось бы ещё двадцать восемь глав, после которых уже следовало бы начать второй том. Читатель не получил бы ничего сверх того, что получил он от Пушкина, но потратил бы на всё то же самое в двести восемьдесят раз больше времени.
С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля.
Почему?
Потому что здесь у дилетанта в голове происходит мешанина из: 1) рассказа, как процесса, 2) яркого, живого слова, как инструмента создания рассказа, и 3) образа, как возникшей в голове у читателя ассоциации. Говоря «показывать», графоман имеет в виду, что у читателя в голове должен возникнуть образ. Ориентируясь на эту цель, он начинает делать какие угодно безумные вещи, лишь бы у читателя нарисовался в голове образ.
А образ не нарисуется, потому что (я это повторяю всегда и буду повторять, пока пребываю в здравом уме и твёрдой памяти) читательский процесс не тождествен процессу писательскому. И никакой зависимости реакций читателя от того, что и как пишет писатель, — нет. Нет такого волшебства, с помощью которого вы могли бы добиться от читателя точно заданного восприятия, потому что у каждого из нас свой жизненный опыт, своя система ценностей, свои приоритеты, своё мировоззрение, своё миропонимание, свой образ мысли.
И поэтому единственно возможная ответственность писателя — безошибочный выбор слова. Если вы выстроили фразу таким образом, что все слова в ней на своих местах и точны по смыслу, значит, вы справились с задачей.
Читатель вас не принял? Читатель вас «не так» понял? Читатель «неправильно» вас прочёл? Извините, но у читателя свой процесс, и вы не вправе вмешиваться в него точно так же, как он не вправе вмешиваться в ваш процесс сотворения мира.
Итак, писатель рассказывает посредством слов; чем точнее его речь, тем лучше он излагает свои мысли. Читатель читает слова; в зависимости от набора случайных обстоятельств слова могут рождать образы или не рождать образы, или рождать вообще что угодно, но в любом случае у читателя мысли тоже будут свои. Ставить вопрос так, как поставил его топик-стартер («показывать, а не рассказывать») некорректно, потому что писатель оперирует только словами, других инструментов у него нет; таким образом, он может только рассказывать, а всё, что он якобы «показал», есть на самом деле продукт восприятия читателя. Эти процессы, короче говоря, относятся к разным людям, и уже на этом основании они не могут быть взаимозаменяемы.
3
Много описаний места действия и персонажей - вообще лишние.
Вот смотри, как ты пользуешься русским языком (это, кстати, к предыдущему пункту — о точности изложения мыслей… ещё кстати, напоминаю, что язык — это твой инструмент).
«Много описаний… лишние». Ничего не режет? Вот тут, конечно, надо пойти срочно к Розенталю и выучить… желательно, конечно, сразу всё, но для начала хотя бы про согласование. Ты ведь хотела сказать, что описания места действия и персонажей зачастую избыточны? Или ты хотела сказать, что пространные описания места действия и персонажей неуместны? «Много лишние» — это, конечно, очень продуктивная в фантазийном плане конструкция, но даже когда ты пишешь для себя (то есть, наверное, в особенности для себя), ты должна руководствоваться в первую очередь правилом точного подбора слов для выражения своих мыслей. Прочтёшь вот так лет через тридцать, с высоты уже виртуоза русского языка: «Много лишние», — тут-то тебя кондратий и хватит.
Тем не менее, по теме могу напомнить о существовании классиков французской литературы, которые почти все, как один, страшно грешили и многими описаниями, и пространными описаниями, и детальными описаниями, и вообще обожали описания. Ну, то есть кого ни возьми: Гюго, Бальзак, Золя, Мопассан, да даже и Дюма, — все они, как один…
И всех мы любим, ладно, не всех, большинство.
И вот как ты себе представляешь «Собор Парижской Богоматери» без многих пространных описаний? А эпопею о Ругон-Маккарах? Помнишь:
Кстати, и эта история, и двенадцать предыдущих, и семь последующих, подобно пушкинской «Капитанской дочке», — рассказана, а не показана.
Этьен едва узнал высокую приемочную, которая утром, при тусклом свете фонарей, представлялась ему такой мрачной. Теперь это было просто голое, грязное помещение. В запыленные окна глядел пасмурный день. Только машина ярко поблескивала медными частями; стальные канаты, обильно смазанные маслом, тянулись, словно ленты, окунутые в чернила; шкивы и переплеты в вышине, клети, вагонетки и еще многие другие металлические части, потемневшие от времени, заполняли помещение. По чугунным плитам неумолчно грохотали…
4
Третье задание вызвало недоумение. "Напишите фразу. Переработайте ее. Пять раз!"
Вот, зачем? Зачем писать фразу, а потом пять раз перерабатывать её? Какой в этом смысл? Сможешь ли ты научиться выражать свои мысли точнее, если будешь учиться писать одно и то же о пяти вариантах? Нет. Потому что верное слово всегда одно, и, таким образом, если ты подберёшь верное слово, то оставшиеся четыре варианта окажутся ошибочными (и зачем тогда их подбирать?), а если не подберёшь, то ошибочными окажутся все пять вариантов, но, поскольку поиск ограничен только пятью попытками, верного слова ты так и не найдёшь. В конце концов, искать единственно истинный вариант ты не научишься, зато запутаешься в этих вариантах, как деревенская Жучка в мегаполисе, и уподобишься графоманам, которые свои мысли выражать умеют только одним способом — через жопу.
Кстати, ты и сама это прекрасно понимаешь, хоть и не можешь выразить: как ты совершенно справедливо заметила, невозможно изменить во фразе хотя бы одно слово и при этом сохранить смысл целиком.
5
Я могу создавать персонажей с разными мировоззрениями, но у меня не получаются (пока) персонажи с разной речью.
Вот на это вообще пока не замахивайся, потому что это приходит только с опытом письма, каковой неотделим от опыта понимания образа мысли. Образ мысли и мировоззрение — это разные вещи. Когда научишься думать по-разному, тогда придёт и разное изложение от разных действующих лиц.
Чуть-чуть в помощь на будущее.
Суть дела не в том, мальчик твой персонаж или девочка, молодой он или старый, в селе живёт или в городе, образован или не очень, и так далее. Вопрос, как правило, только в том, насколько рационально или эмоционально он мыслит, насколько умён и насколько смел. Вот эта дилемма, рацио vs эмоции, вкупе с пропорциями ума и отваги, и порождает огромное множество вариантов речи.
Смотри, я человек вполне эмоциональный, даже взрывной местами, но у меня эмоциональные процессы происходят вне зависимости от процессов, происходящих в голове. Я буду ругаться матом и при этом последовательно, не сбиваясь, излагать то, что думаю, — параллельно. Эмоции мне думать не только не мешают, но даже помогают: в обстановке эмоционального накала я способна работать втрое продуктивней, чем обычно. При этом в моей речи эмоциональное напряжение выражается только концентрацией матюков и повышением тона. Учтём, что я мало чего боюсь и склонна брать на себя инициативу и лидерство в тех вопросах, где чувствую себя компетентной. В моей речи будет больше, чем в среднем по палате повелительного наклонения и прямого обращения к собеседнику.
Возьмём другого человека, который эмоции переживает тем же самым местом, которым думает. При этом он тоже обладает лидерскими качествами и мало чего боится. Что при эмоциональном взрыве мы будем наблюдать у него? Мы будем наблюдать чистую, незамутнённую мыслями эмоцию. При этом лексически такой человек может утверждать то же самое, что и я — тютелька в тютельку теми же словами. Просто, если он откроет рот, эти слова окажутся расставлены в таком порядке, что фалломорфируют все, а сам он раньше всех. Поэтому разговаривать в обстановке сильного эмоционального напряжения он не будет вообще, зато руками будет махать много и эффективно. Повелительное наклонение, если он всё-таки заговорит, будет не то что преобладать, а окажется просто единственно возможным.
Возьмём и третьего человека, которому эмоции вообще безразличны — и свои, и чужие. Он ровен, ровен, ровен, он предельно ровен всегда и везде, он вообще ничего не боится, и только где-то глубоко внутри него кипит котёл, который, если выплеснется, сварит его самого заживо. При этом он совершенно не претендует на лидерство. Опять-таки лексически такой человек может быть тождественен второму человеку и мне. Что мы будем наблюдать при эмоциональном взрыве у такого человека? А он будет сначала молчать и фтыкать, а потом пытаться говорить — подчёркнуто спокойно и как можно лаконичней, потому что есть всё-таки единственная вещь на свете, которой он боится, — это он сам в состоянии аффекта. Вот этого состояния он будет избегать всеми силами, что и окрасит его речь соответствующим образом. В нормальной обстановке в его речи причастия и сослагательное наклонение будут встречаться чаще, чем у любого другого человека.
Ну, и там ещё и четвёртые люди есть, и пятые, и тридцать восьмые…
В чём будет выражаться между всеми нами речевая разница, при условии, что лексических различий нет (а такое запросто может случиться, если, к примеру, ты описываешь жизнь какого-нибудь отдалённого племени)? Одним словом?
Правильно, в грамматике. Синтаксис — наше всё. Последовательность слов, порядок членов предложения, интонации, паузы, соотношение наклонений, частота употребления глагольных форм, вводных и уточняющих слов, междометий и слов-паразитов, темп речи — вот это, в частности, и образует речевые характеристики отдельных людей, а вовсе не «дык, эта, значица, поелику покумекали надысь». Грамматический строй речи следует за мыслью человека в любой ситуации, эмоционально напряжённую я привела только как наиболее яркий пример, на котором хорошо видны различия. Понятно, что чем менее эмоционально ситуация окрашена, тем различия будут проявляться глуше. Тем не менее, они будут.
Но это, повторяю, отложи на потом, потому что оно не приоритетно. Вначале — точное изложение мысли и понимание того, как и в каком направлении у человека движется мысль.
6
Во всех получившихся диалогах я нашла не более одного внятного яркого образа. В моём собственном тоже.
А задание «диалог без авторского текста», оно, вообще, о чём?
Чем не выполненное задание? Диалог есть (и даже не лишённый смысла, и даже аутентичный шописец), авторского текста нет — лепота, атвинта.
— в дд на ласта 1 хил и го
— +
Что касается образов… дети… вам бы хотя бы вообще бы научиться бы создавать бы образы. Хоть какие бы, вообще бы, как-нибудь бы. Тушкой, там, по периметру, по стеночкам. Какие образы в диалогах, вы с ума, что ли, посходили? Если вы себе такие задачи будете ставить, у вас, кроме чувства глубокой неполноценности, не получится вообще ни шиша.
Образ рождается конфликтом (да, кстати, праканфликты). Без конфликта образа не бывает и быть не может, потому что первый и основной признак образа — это динамика, а в бесконфликтной обстановке никакой динамики сроду не было, а был один сплошной, говорят, матриархат сто миллионов лет подряд. И никакой истории. Поели — можно поспать, поспали — можно поесть, всё. Динамике даёт начало конфликт. Конфликт завязывается, развивается, достигает кульминационной точки и каким-то образом разрешается. И до тех пор, пока наш герой не сделал хотя бы первый выбор, мы не можем говорить о полноценном образе. Максимум, что перед нами может оказаться, — это более или менее внятно заточенная болванка под образ. В большинстве же случаев мы на протяжении очень длительного времени в любом, без исключения, произведении видим не образ, а прототип. Вспомните Джульетту из начала трагедии — где там образ, вы ачёмваще?
То есть для того, чтобы преподнести образ в единственном диалоге, нам нужно:
а) твёрдо знать всё вышеизложенное и ещё много чего (о чём, в частности, я говорила на протяжении нескольких лекций и на семинаре), а самое главное, ничего ни с чем не перепутать. То есть это всё даже не от зубов должно отскакивать, а просто на уровне мозжечка восприниматься;
б) уметь выбрать такой диалог, который показывает сразу и конфликт, и все его значимые детали;
в) виртуозно уметь делать п. 5, то есть персонажей с отчётливо разной речью. Почему? Потому что подобного рода диалоги длятся, как правило, долго, и если в коротком диалоге читатель может ещё хотя бы тупо подсчитать по пальцам, кому какая реплика принадлежит, то в диалоге длинном этот вариант даже как крайне запасной рассматриваться не должен;
г) да, тащемта, и этого довольно.
У меня только один вопрос:
(Ща если сюда прибегут графоманьки, они затявкают, что я из ревности (зависти, серости, убожества — список продолжить, нужное подчеркнуть) качу бочку на достойнейших людей, которые кладут все свои силы на алтарь вплоть до творческого карачуна. Так вот, заявляю мануально: в творческий карачун я верю, во благие намерения верю тем более, но если сейчас я оказалась внезапно ведома ревностью, завистью, серостью, убожеством и прочими пунктами списка, то, внимание вопрос, какими вселенскими пороками я была одержима семь-восемь лет назад, когда нянькалась с тогдашней «грелочной» тусовкой? Нет, мне совершенно не завидно, напротив, я изо всех последних сил сочувствую достойнейшим на алтаре, я знаю, каково это, я была в их шкуре. Мне просто интересно, каким местом они думают, какие цели ставят и понимают ли смысл и ценность упражнений, которые предлагают своим ученикам, больше ничего.)
7
"Опишите, что вы чувствуете прямо сейчас через запахи"
Мускус, пыль, хлор, йод, ментол, табак, резина… мы пришли из магазина. Ну, описала — в чём профит? Кто-нибудь понял, что это описание оргазма? (Нет, не прямо сейчас, конечно, но так, в принципе.) (Кстати, будь это опубликовано в ЖЖ, я бы поспорила с кем-нибудь, что основная масса комментов окажется к вопросу о наличии запаха йода в момент оргазма. Окда, детки, это Чёрное море, детки, и будем пунктуальны: сказано «запах» — называем по возможности запах, а не то, чему этот запах может быть присущ. Чёрное море, сколь мне известно, пахнет не Чёрным морем, а йодом.)
Вопрос, между тем, появляется уже нешуточный:
Да, и самое главное: чем это описание будет отличаться (кроме мускуса) от описания любого другого действия в пределах привычной обстановки, за исключением готовки, уборки, стирки и мытья? А, ну да, можно ещё заглянуть в туалет, например — тоже занятие, и даже, как тонко подметил Сорокин, не лишённое запахов.
Хорошо, допустим, что мы просто учимся описывать реальность посредством запахов — не знаю, для чего конкретно это может понадобиться (мне кажется, что те, кто склонны к подобным описаниям, в специальном обучении не нуждаются, а те, кто не склонны, прекрасно обойдутся и без них), но пусть, ладно, учимся, да. Почему вопрос при этом ставится о наших ощущениях? Я испытываю некоторое напряжение в левом колене: оно у меня чуток затекло, пока я держала на нём ноут. Каким запахом это можно выразить? Запахом документа 13 программы Microsoft Word?
И тут запахло мне недобро — экселем…
Не смогла дочитать до конца ни одну работу участников. Они - в большинстве - начинаются с "Состояние А пахнет В", и дальше идут некие рассуждения с экскурсом в прошлое.
Ничего удивительного: глупость может породить только глупость.
8
Через запахи здорово описывать обстановку, я думаю. "Пахнет морозом, мандаринами и хвоей", например.
Штампы — это никогда не здорово, а какое описание Нового года ни открой, везде будут мандарины и хвоя, и нередко мороз. Поэтому подобное описание будет уместно только в двух случаях: «Всё шло через жопу, но, поскольку в канун Нового года пахло всё-таки не жопой, а морозом, мандаринами и хвоей, то, значит, через жопу шло как минимум не всё» и «Ненавижу (обожаю) такой-то запах». Всё, больше упоминание об этих запахах здоровским не будет нигде.
Точно так же не будет здоровским (за исключением описанных выше контекстов) описание запахов:
— горячих пирожков;
— хлеба;
— любых абсолютно привычных нам ягод и фруктов;
— сена, соломы, скошенной травы, свежей мяты и грибов;
— дождя (грозы и прочей свежести);
— любой другой говноромантики, вроде осенних листьев, мокрого весеннего асфальта и разной контекстной чепухи, которая попросту банальна (в конюшне, например, пахнуть будет опилками и навозом по умолчанию).
Этому всему уже сто лет в обед, и на всех этих штампах клейма негде ставить. Кстати, вот ещё и поэтому я злюсь на тех, кто дал вам задание описать что-то через запахи. Ёжику понятно, что сто процентов из ста процентов семинаристов кинутся штамповать — и что эти сто процентов вынесут из подобного урока?
Припомни лучше как можно больше состояний, при которых человек может вспотеть. Я серьёзно. (На всякий случай: состояние следует отличать от занятия. То есть, например, человек может вспотеть как в бане, так и в плавильном цеху, и просто на солнцепёке, но если в плавильном цеху и в бане пот у него выступил только от жары, то засчитываться отдельно от солнцепёка это состояние не может: и в том, и в другом, и в третьем случае человек вспотел, потому что упарился.)
9
Про саму систему, запрещающую семинаристам критиковать друг друга.
Это идиотская система, хуже, чем любая грелка. Я не знаю, что она там укрепляет, волю или неволю, но то, что она учит не излагать своё мнение, а заниматься петтингом, видно невооружённым глазом.
Писатель не должен быть ни послушным, ни хорошим, ни нежным, он должен быть самостоятельным, сильным и зрячим. А если ему завязывают глаза, сажают его на цепь и развращают, он утрачивает и самостоятельность, и силу, и способность видеть.
Очень странно, что вместо развития культуры дискуссии (это когда о достоинствах и недостатках говорится прямо и при этом корректно, без переходов на личности) вам внушают конформизм. Хотя, казалось бы, не существует лучшей площадки для обучения культуре дискуссии, чем писательский семинар под руководством лидера (или у вас там нет лидера?). Твои учителя чего-то боятся? Чего? Того, что ваши споры выйдут из-под их контроля? Они настолько не уверены в своём авторитете?
Я не знаю, кто они, но у меня большие сомнения в их профпригодности, как учителей. Я сама никудышный учитель, потому что чересчур требовательна и абсолютно бескомпромиссна, но эти, похоже, совсем паршивые. Хотя, конечно, они могут быть при этом гениальными писателями, я ж не знаю, не читала.
10
Это совершенно не о том, что вот конкретно ты и прямо немедленно должна всё бросить и бежать без оглядки куда-нибудь подальше от этого семинара. Я поделилась соображениями и задала ряд вопросов, которые, по-моему, должен задавать себе в подобных обстоятельствах всякий думающий человек. Плюс к тому, я поделилась некоторыми соображениями относительно твоих выводов. Это, надеюсь, пригодится не только тебе.
А теперь, собственно, небольшое рассуждение об особенностях современного мира.
Основная проблема современного мира заключается в том, что он отвергает самостоятельность, силу и способность видеть. Эти качества неудобны, потому что самостоятельным, сильным и зрячим человеком почти невозможно манипулировать, а современный мир целиком построен на манипуляции. Самостоятельный, сильный и зрячий человек — это субъект, тогда как человек несамостоятельный, слабый и слепой — это объект. Разница понятна, верно?
Вот именно поэтому в современном мире очень важно быть человеком самостоятельным, сильным и зрячим. Если ты хочешь быть субъектом, то есть выступать действующим лицом, иного выхода, кроме как стать самостоятельным, сильным и зрячим, нет. В противном случае тебя проспрягают в страдательном залоге, и окажешься ты не делающим, а делаемым.
При этом никаких тайн бытия не существует: для того, чтобы стать самостоятельным человеком, нужно осваивать инструменты своей работы; для того, чтобы стать и оставаться человеком сильным, нужно помогать тем, кто слабее; для того, чтобы стать и оставаться человеком зрячим, нужно постоянно, по любому поводу задавать вопросы и искать на них ответы, не считаясь с тем, насколько они удобны или приятны для кого-либо.
Если всё так просто, то почему в нашем мире так мало людей самостоятельных, сильных и зрячих?
На самом деле в нашем мире достаточно людей самостоятельных и сильных. Не так-то просто даже в нашем мире заставить человека отказаться от освоения инструментов и помощи ближним: от первого зависит выживание, от второго — самооценка, которая, в сущности, тоже есть бонус к выживанию. А вот кого у нас по-настоящему мало, так это зрячих. Оно и понятно, для того, чтобы человек перестал задавать вопросы и искать на них ответы, чаще всего достаточно просто поставить его в такие условия, в которых он вынужден будет ежеминутно выживать. Обеспечить подобные условия очень просто: капитализм, ипотеки, кредиты, варварские условия труда, перенаселённость городов, чудовищные транспортные потоки, стресс, дресс-код, стресс — и вот он, человек, которого уже мало что интересует, кроме того, что давно уже понятно. В результате наш мир задаёт очень мало вопросов и ленится искать ответы на те вопросы, которые всё-таки задаёт.
По-моему, это совершенно достаточное основание, чтобы избегать всего, что отвращает от любопытства и мешает задавать вопросы.

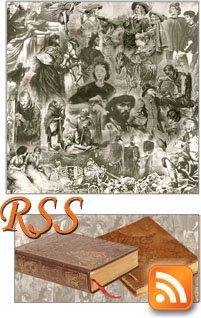


- Читать в LiveJournal
Для справки: с начала осени 2008 г. по неизвестным причинам ЖЖ-трансляция не обновляется вообще; так что, если хотите получать обновления своевременно, лучше подписывайтесь непосредственно на RSS (читать об RSS-агрегаторах).